Давай поженимся (Апдайк Джон)
Это - любовь. Это - ненависть. Это - любовь-ненависть.
Это - самое, пожалуй, жестокое произведение Джона Апдайка, сравнимое по степени безжалостной психологической обнаженности лишь с ранним его `Кролик, беги`. Это - не книга даже, а поистине тончайшее исследование человеческой души…
Об авторе: Родился в 1932 году в Рединге (штат Пенсильвания). Детство провел в городке Шиллингтон. Окончил Гарвардский университет и школу живописи в Англии. Работал штатным обозревателем журнала "Нью-Йоркер". В 1953 женился на Мэри Пеннингтон. С конца 50-х годов выступает как профессиональный писатель. еще…
С книгой «Давай поженимся» также читают:
Предпросмотр книги «Давай поженимся»
ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ
Джон АПДАЙК
Анонс
Джон Апдайк - писатель, в мировой литературе XX века поистине уникальный, по той простой причине, что творчество его НИКОГДА не укладывалось НИ В КАКИЕ стилистические рамки. Легенда и миф становятся в произведениях Апдайка реальностью; реализм, граничащий с натурализмом, обращается в причудливую сказку; постмодернизм этого автора прост и естественен для восприятия, а легкость его пера - парадоксально многогранна...
Это - любовь. Это - ненависть. Это - любовь-ненависть.
Это - самое, пожалуй, жесткое произведение Джона Апдайка, сравнимое по степени безжалостной психологической обнаженности лишь с ранним его “Кролик, беги”. Это - не книга даже, а поистине тончайшее исследование человеческой души...
О, если любишь ты меня,
Женись, не ведая сомненья,
Любовь не хочет ждать ни дня,
Она умрет от промедленья.
Роберт Херрик
I. ТЕПЛОЕ ВИНО
Этот пляж на перенаселенном побережье Коннектикута был мало кому известен - к нему ведет узкая асфальтовая дорога с непонятными развилками, зигзагами и поворотами, которую поддерживают лишь в относительно приличном состоянии. У большинства неясных поворотов потрескавшиеся деревянные стрелки с длинным, индейским названием указывают дорогу к пляжу, но некоторые из них упали в траву, и когда наша пара впервые решила здесь встретиться, - а было это идиллическим, не по сезону мягким мартовским днем, - Джерри сбился с пути и опоздал на полчаса.
Сегодня Салли опять приехала раньше него. Он задержался: купил бутылку вина, потом - безуспешно - пытался найти штопор. Ее темно-стальной “сааб” стоял одиноко в дальнем конце площадки для машин. Джерри мягко подвел к нему свой автомобиль - старый “меркурий” со складным верхом - в надежде, что Салли сидит, дожидаясь его, за рулем и слушает радио: у него в машине как раз зазвучал Рэй Чарльз, исполнявший “Рожденные для утрат”.
Мечты всегда, всегда
Мне приносили только боль...
Она оживала перед ним в этой песне - в голове у него уже сложились слова, которыми он окликнет ее и предложит перейти к нему в машину, чтобы вместе послушать: “Эй! Привет! Иди скорей сюда - клевые записи дают!” Он привык разговаривать с ней, как мальчишка с девчонкой, перемежая хиповый жаргон телячьим сюсюканьем. Песни по радио обретали для него новый смысл, если он слушал их, когда ехал к ней на свидание. Ему хотелось слушать их вместе с нею, но они редко приезжали в одной машине, и по мере того, как той весной неделя сменяла неделю, песни, словно майские жуки, умирали в полете.
Ее “сааб” стоял пустой, Салли поблизости не было. Наверно, она - в дюнах. По форме пляж был необычный: дуга гладкого намытого океаном песка тянулась на добрых полмили между нагромождениями больших, в желтых потеках, камней; вверх от ближайшей груды камней уходили дюны - чахлая трава и извилистые дорожки отделяли друг от друга сотни песчаных лоскутов, словно комнаты в огромном, созданном природой отеле. Это царство гребней и впадин было обманчиво запутанным. Им ни разу еще не удалось найти то место - то идеальное место, где они были в прошлый раз.
Джерри быстро полез вверх по крутой дюне, не желая терять время и останавливаться, чтобы снять туфли и носки. Он задыхался, поднимаясь бегом в гору, и это казалось таким чудесным - будто вернулась юность, вернулась жажда жизни. С тех пор как начался их роман, он всегда спешил, бежал, выгадывал время там, где прежде этого не требовалось, - он стал атлетом, обгонявшим часовую стрелку, выкраивавшим то тут, то там час-другой, из которых складывалась небывалая и неведомая вторая жизнь. Он бросил курить: ему не хотелось, чтобы его поцелуи отдавали табаком.
Он выскочил на гребень дюн и испугался: Салли нигде не было. Вообще никого не было. Помимо их двух машин, на просторной стоянке виднелось еще штук десять - не больше. А через какой-нибудь месяц здесь будет полно народу: забитый досками дом (бар-раздевалка) оживет, наполненный загорелыми людьми и грохотом механической музыки, в дюнах станет невыносимо жарко, необитабельно. Сегодня же дюны еще хранили оставшуюся после зимы первозданность природы, не тронутой человеком. Когда Салли окликнула его, звук прилетел к нему по прохладному воздуху, словно крик птицы: “Джерри?” Это был вопрос, хотя если она видела его, то не могла не знать, что это он. “Джерри? Эй?”
Повернувшись, он обнаружил ее на одной из дюн, что высилась над ним, - она осторожно шла в желтом бикини, глядя вниз, чтобы не наколоть босые ноги о жесткую траву; светловолосая, стройная, вся в веснушках, она казалась сейчас стыдливой девой песков, скрывавших ее от него. На вид плечи и грудь у нее были жаркие, а впадина спины - прохладная. Наверно, лежала на солнце. Ее широкоскулое, с заостренным подбородком лицо раскраснелось.
- Эй! Как я рада, что ты приехал?! - Она слегка задыхалась, возбужденный голос ее звенел, и каждая фраза звучала вопросительно. - Жду тебя здесь, в дюнах, а вокруг носится орда диких полуголых мальчишек, мне стало так стра-ашно?!
Мгновенно отбросив хиповые выражения, точно он стремился обойти нечто непередаваемое, смущающее, Джерри подчеркнуто вежливо сказал:
- Храбрая ты моя бедняжечка. Каким опасностям я тебя подвергаю. Извини, что опоздал. Слушай. Мне ведь надо было купить вина, потом я пытался купить штопор, а эти абсолютные кретины, эти типы в занюханной деревенской лавчонке - их бы только Норману Рокуэллу <Норман Рокуэлл - американский художник и иллюстратор, прославившийся своими зарисовками мальчишек> рисовать - пытались всучить мне вместо штопора коловорот.
- Коловорот?
- Ну да. Это как скоба с ручкой, только без скобы.
- Тебе, видно, совсем не жарко.
- Ты же лежишь на солнце. Ты где?
- Здесь, наверху?! Иди сюда.
Прежде чем последовать ее призыву, Джерри присел, снял туфли и носки. Он был в городской одежде - в пиджаке и при галстуке - и нес бумажный пакет с бутылкой вина, словно дачник, возвращающийся домой с подарком. Салли расстелила свое красное с желтым клетчатое одеяло во впадине, где не было ничьих следов - лишь ее собственные. Джерри поискал глазами мальчишек и обнаружил их на некотором расстоянии в дюнах - они настороженно наблюдали за молодой парой, не поворачивая головы, точно чайки. А он бесстрашно, не таясь, посмотрел на них и прошептал Салли:
- Они же совсем щенки и, похоже, невредные. Но может, ты хочешь уйти подальше в дюны?
Он почувствовал, как она кивнула у его плеча, кивнула, будто сказала, как одна лишь она могла сказать, по-особому, быстро и резко дернув головой: “Да, да, да, да”; он ловил себя на том, что нередко, когда Салли и близко не было, подражал этой ее манере. Он поднял ее одеяло, и ее плетеную сумку, и ее книгу (роман Моравиа) и положил на ее теплые руки. Шагая рядом с нею вверх по склону соседней дюны, он обнял ее обнаженный торс, желая поддержать, и повернулся, проверяя, видели ли мальчишки этот жест собственника. Но они, устыдившись, уже с воплями неслись в другом направлении.
Как всегда, Джерри и Салли долго бродили по дюнам - вниз по извилистым дорожкам меж колючих кустов восковицы, вверх по гладким склонам, смеясь от усталости, выискивая идеальное место - то самое, где они были в прошлый раз. И, как всегда, не могли его найти; под конец они разложили одеяло в первой попавшейся ложбинке с чистым песком и тотчас сочли это место изумительным.
Джерри встал перед ней в позу и устроил стриптиз. Сбросил пиджак, галстук, рубашку, брюки.
- О, - сказала она, - на тебе уже купальные трусы.
- Я проходил в них все это чертово утро, - сказал он, - и всякий раз, чувствуя, как резинка впивается в живот, думал: “А я увижу Салли. И она увидит меня сразу в купальных трусах”.
С наслаждением впивая воздух каждой клеточкой своего тела, он огляделся: они были скрыты от чужих глаз, сами же могли видеть стоянку для машин внизу, и застывший рукав моря, крепко зажатый между здешним берегом и Лонг-Айлендом, и сверкающие гребешки пены, спешащие к берегу и разбивающиеся о полосатые скалы.
- Эй?! - послышалось с одеяла. - Не хочешь навестить меня в своих купальных трусах?
Да, да - почувствовать друг друга кожей, всей длиной тела, на воздухе, под солнцем. От солнца под опущенными веками Джерри поплыли красные круги; бок и плечо Салли нагрелись, рот постепенно таял. Они не спешили - это и было, пожалуй, самым весомым доказательством того, что они, Джерри и Салли, мужчина и женщина, были созданы друг для друга, - они не спешили, они стремились не столько распалиться, сколько успокоиться один в другом. Его тело постепенно заполняло ее, прилаживалось, приспосабливалось. Ее волосы - прядь за прядью - падали ему на лицо. Чувство покоя, ощущение, что они достигли долгожданного апогея, наполняло его, словно он погружался в сон.
- Непостижимо, - сказал он. И повернул лицо вверх, чтобы вобрать в себя еще и солнце: под веками все стало красным.
Она заговорила, уткнувшись губами в его шею, где была прохладная, хрусткая от песчинок тень. Он чувствовал песок, хотя песчинки скрипели на зубах Салли.
- А ведь стоит того - вот что самое удивительное, - сказала она. - Стоит того, чтобы ждать, преодолевать препятствия, лгать, спешить; наступает эта минута, и ты понимаешь, что все стоит того. - Голос ее, постепенно замирая, звучал тише и тише.
Он сделал попытку открыть глаза и ничего не увидел, кроме плотной идеальной округлости чуть поменьше луны.
- А ты не думаешь о той боли, которую мы причиним? - спросил он, снова крепко сжав веки, накрыв ими пульсирующее фиолетовое эхо.
Ее неподвижное тело вздрогнуло, словно он плеснул кислотой. Ноги, прижатые к его ногам, приподнялись.
- Эй?! - сказала она. - А как насчет вина? Оно ведь согреется. - Она выкатилась из его рук, села, откинула волосы с лица, поморгала, сбросила языком песчинки с губ. - Я захватила бумажные стаканчики: не сомневалась, что ты о них и не вспомнишь. - Это крошечное проявление предвидения в отношении своей собственности вызвало улыбку на ее влажных губах.
- Угу, ведь и штопора у меня тоже нет. Вообще, леди, не знаю, что у меня есть.
- У тебя есть ты. И это куда больше, чем все, что имею я.
- Нет, нет, у тебя есть я. - Он заволновался, засуетился, пополз на коленях туда, где лежали его сложенные вещи, извлек из бумажного пакета бутылку. Вино было розовое. - Теперь надо выбрать место, где ее разбить.
- Вон там торчит скала.
- Думаешь? А если эта хреновина раздавится у меня в руке? - Внезапная неуверенность в себе пробудила привычку к жаргону.
- А ты поосторожнее, - сказала она. Он постучал горлышком бутылки о выступ бурого, в потеках, камня - никакого результата. Постучал еще, чуть сильнее - стекло солидно звякнуло, и он почувствовал, что краснеет. “Да ну же, дружище, - взмолился он про себя, - ломай шею”.
Он решительно взмахнул бутылкой - брызги осколков сверкнули, прежде чем он услышал звук разбиваемого стекла; изумленный взор его погрузился сквозь ощерившееся острыми пиками отверстие в море покачивающегося вина, заключенное в маленьком глубоком цилиндре. Она подползла к нему на коленях и воскликнула: “У-у!”, несколько пораженная, как и он, этим вдруг обнажившимся вином - зрелищем кровавой плоти в лишенной девственности бутылке. И добавила:
- С виду оно отличное.
- А где стаканчики?
- К черту стаканчики. - Она взяла у него бутылку и, ловко при ладившись к зазубренному отверстию, запрокинула голову и начала пить. Сердце у него на секунду замерло от ощущения опасности, но когда она опустила бутылку, лицо у нее было довольное и ничуть не пораненное. - Да, - сказала она. - Вот так у него нет привкуса бумаги. Чистое вино.
- Жаль, что оно теплое, - сказал он.
- Нет, - сказала она. - Теплое вино приятно.
- Очевидно, по принципу: лучше такое, чем никакого.
- Я сказала приятно, Джерри. Почему ты мне никогда не веришь?
- Слушай. Я только и делаю, что верю тебе. - Он взял бутылку и так же, как она, стал пить; когда он запрокинул голову, красное солнце смешалось с красным вином.
Она воскликнула:
- Ты порежешь себе нос!
Он опустил бутылку и, прищурясь, посмотрел на Салли. И сказал про вино:
- От него покачивает. Она улыбнулась и сказала:
- Вот тебя и качнуло. - Она дотронулась до его переносицы и показала алое пятнышко крови на своем белом пальце. - Теперь, - сказала она, - встретясь с тобой в обычных условиях, я всегда буду замечать этот порез у тебя на носу; и только я буду знать, откуда он.
Они вернулись на одеяло и дальше уже пили из стаканчиков. Потом они пили вино друг у друга изо рта, потом он капнул немножко ей на пупок и слизнул. Через какое-то время он застенчиво спросил ее:
- Ты меня хочешь?
- Да?! Очень, очень?! Всегда?! - Опять эта ее интонация, все превращавшая в вопросы.
- Никого кругом нет, нас тут не увидят.
- Тогда быстрей?!
Опустившись на колени у ног Салли, чтобы стянуть с нее нижнюю часть желтого купального костюма, он вдруг подумал о продавцах из обувного магазина - в детстве его смущало, что на свете есть люди, которые только и заняты тем, что, став перед другими на колени, возятся у их ног, и он удивлялся, что при этом они вроде бы не чувствуют себя униженными.
***
Хотя Салли была уже десять лет замужем и к тому же до Джерри имела любовников, ее манера любить отличалась чудесной девственной безыскусностью и простотой. С собственной женой у Джерри часто возникало порочное ощущение тщательно продуманных извивов и усилий, а с Салли - хоть она уже столько раз через все это прошла - всегда было бесценное ощущение изумленной невинности. Ее осыпанное веснушками, запрокинутое в экстазе лицо, с капельками пота, который выступил от солнца на верхней губе, обнажавшей сверкающие передние зубы, казалось зеркалом, помещенным в нескольких дюймах под его лицом, - чуть запотевшим зеркалом, а не лицом другого человека. Он спросил себя, кто это, и потом вдруг вспомнил: “Да это же Салли!” Он закрыл глаза и постарался дышать в одном ритме с ее легкими прерывистыми вздохами. Когда ее дыхание стало ровным, он сказал:
- А ведь под открытым небом лучше, верно? Больше кислорода.
Он почувствовал ее кивок у своего плеча, словно трепетное касание крыльев.
- А теперь отпусти меня? - сказала она.
Лежа рядом с ней, пока она втискивалась в свои бикини, он предал ее: захотелось сигарету. А ведь все и так хорошо - эта наполненность до краев, эта благодарность, это широкое небо, этот запах моря. Устыдившись стремления снова влезть в свою загрязненную прокуренную шкуру, он вылил остатки вина в стаканчики и воткнул пустую бутылку, как монумент, горлышком вверх в песок.
Салли смотрела вниз на безлюдную стоянку для машин и вдруг спросила:
- Джерри, как я могу жить без тебя?
- В точности как я живу без тебя. Просто мы оба большую часть времени не живем.
- Давай не будем говорить об этом. Давай не будем портить наш день.
- О'кей. - Он взял роман, который она читала, и спросил:
- Ты понимаешь, что к чему у этого малого?
- Да. А ты - нет.
- Не очень. Я хочу сказать, не потому, что все это не правда, но... - Он потряс книгой и отшвырнул ее в сторону. - Разве это надо говорить людям?
- По-моему, он хороший писатель.
- Ты многое считаешь хорошим, верно? Ты считаешь Моравиа хорошим, ты считаешь, что теплое вино - это хорошо, ты считаешь, что любовь - это хорошо.
Она быстро взглянула на него.
- А ты не согласен?
- Отчего же - вполне.
- Нет, не правда, ты мне иногда не веришь. Не веришь, что я вот такая, простая. А я в самом деле простая. Ну совсем, точно... - ей трудно давались сравнения: она видела все так, как оно есть, - ...точно эта разбитая бутылка. Во мне нет тайн.
- Такая красивая бутылка. Посмотри, как срез - там, где отбито, - сверкает на солнце. Она - будто маленький каток, которым утрамбовывают пляж: круглая, круглая. - Джерри снова захотелось сигарету - чтобы было чем жестикулировать.
- Эй? - сказала она, как говорила обычно, когда между ними, казалось, возникало отчуждение. - Привет, - серьезно ответил он.
- Привет, - повторила она в тон ему.
- Солнышко, почему ты все-таки вышла за него замуж?
И она рассказала ему, рассказала подробнее, чем когда-либо, обхватив колени и потягивая вино, - рассказала так мило, мягко, небрежно историю своего брака, типичную историю двадцатого века, а он смеялся и целовал ее склоненную голую поясницу.
- Ну, а я продолжала брать уроки верховой езды, и опять у меня был выкидыш. Тогда он послал меня к психоаналитику, и этот чертов аналитик, Джерри, - он бы тебе понравился: он очень похож на тебя, такой деликатный, - говорит мне - сама не знаю, отчего это у меня, но я всегда стараюсь делать, как советуют мужчины, такая уж у меня слабость, - так вот, он и говорит мне: “На этот раз вы родите”. О'кей, я и родила. В голове у меня все так перепуталось, я даже подумала, уж не от аналитика ли у меня ребенок. Но, конечно, не от него. Это был ребенок Ричарда. Ну, а потом - раз уж появился один, вроде бы надо было завести и еще, чтоб первый вырос человеком. Но не всегда все получается, как хочешь.
- А знаешь, почему у меня столько детей? - спросил он. - Я понятия об этом не имел, пока Руфь не сказала мне как-то ночью. Ты же знаешь, она очень верит в то, что роды должны быть естественные. Так вот, Джоанну она родила с великими муками, поэтому, видите ли, она решила произвести на свет еще двоих детей, чтобы, так сказать, отшлифовать технику. Он надеялся, что вызовет у Салли смех, и она действительно рассмеялась, и в этом обоюдном взрыве веселого серебристого смеха они потопили все печальные тайны, которые хранили про себя. У нее таких тайн было больше, чем у него. Это их неравенство огорчало Джерри, и когда тени от дюн удлинились в их маленькой лощинке, он поцеловал ее запястья и признался, отчаянно пытаясь уравновесить их судьбы:
- Я препогано поступил, женившись на Руфи. Право же, куда хуже, чем если б женился ради денег. Ведь я женился на ней, так как знал, что из нее выйдет хорошая жена. Такой она и оказалась. Господи, до чего же я об этом жалею. До чего жалею, Салли.
- Не грусти. Я люблю тебя.
- Я знаю, знаю. И тоже тебя люблю. Но как могу я не грустить? И что нам делать?
- Не знаю, - сказала она. - Наверно, еще немного потянуть, как оно есть?
- Да ведь на месте ничто не стоит. - Он указал вверх и уставился на солнце, точно хотел себя ослепить. - Это чертово солнце и то на месте не стоит.
- Не устраивай мелодрамы, - сказала она.
Они ползали на коленях, собирая свои вещи, а в уме прокручивали хрупкую ложь, которую придется нести домой. Светлые волосы его Салли упали, когда она склонилась над их крошечным, немудреным хозяйством, - она казалась при этом песчано-желтом освещении такой спокойной и такой покорной, что он сердито поцеловал ее, последний раз в этот день. Все их поцелуи казались последними. Ленивым движением она опустилась на землю и, прижавшись к нему всем телом, обвила его руками. Плечо ее было теплым на вкус - его губы заскользили по ее коже.
- Детка, у меня это не пройдет, - сказал он, и она кивала, кивала так, что тела их закачались: Я знаю. Я знаю.
- Эй, Джерри? За твоим плечом я вижу Саунд, а на нем маленький парусник, и какой-то городок вдали, и волны накатывают на скалы, и все залито солнцем, и так красиво?! Нет. Не поворачивай головы. Просто поверь мне.
II. ОЖИДАНИЕ
- Прощай?
- Не говори мне этого слова, Джерри. Пожалуйста, не говори. - Рука у Салли ныла оттого, что она так долго держала трубку, а сейчас задрожал и мускул плеча. Зажав трубку между плечом и ухом и высвободив таким образом руки, она принялась застегивать лямки на брюках Питера: за последние два-три месяца он научился сам одеваться, вот только пуговицы не умел застегивать, она же в разброде чувств не подумала даже его похвалить. Бедный мальчик, он уже целых десять минут стоял, дожидаясь, пока мать кончит разговор, - ждал и слушал, ждал и наблюдал с неуверенной улыбкой и таким настороженным выражением в глазах, что она заплакала. Рыдания подступили к горлу, словно рвота; она сжала зубы, стараясь, чтобы их не было слышно в телефоне.
- Эй? Не надо. - Джерри смущенно рассмеялся - звук донесся слабо, издалека. - Ведь я же только на два дня.
- Не говори так, черт бы тебя подрал. Мне плевать, что ты там думаешь, но не смей этого говорить. - “Я с ума схожу, - подумала она. - Я - сумасшедшая, и он возненавидит меня”. При мысли, что он может возненавидеть ее после того, как она так безраздельно себя ему отдала, Салли возмутилась. - Если ты только и способен смеяться надо мной, может, лучше нам в самом деле расстаться.
- О Господи. Я вовсе не смеюсь над тобой. Я люблю тебя. Мне просто невыносимо, что я не могу быть с тобой, чтобы утешить тебя.
Питер потерся об нее, чтобы она застегнула ему и другую лямку, и она почувствовала в его дыхании запах леденца.
- Где ты взял леденец? - спросила она. - Нельзя есть сладкое с утра.
Джерри спросил:
- Кто там у тебя?
- Никого. Только Питер.
- Мне дал Бобби, - сказал Питер, и на его личико, растянутое в неуверенной улыбке, стал наползать страх.
- Пойди разыщи Бобби и скажи, что я хочу с ним поговорить. Иди же, лапочка: Иди найди Бобби и скажи ему. Мама сейчас кончит говорить по телефону.
- Бедный Питер, - раздался у нее в ухе голос Джерри. - Не отсылай его.
Да как он может так говорить, он, который лишил ее всякой радости общения с детьми? И однако, то, что он так говорил, делало ее совсем беззащитной, не измеримо расширяло ее любовь: не желал он держаться в рамках любовника, какими она их себе представляла. Излишняя доброта то и дело заставляла его вылезать из своей скорлупы. Слезы обожгли ей щеки: она молчала, чтобы он не услышал ее охрипшего голоса. Живот и плечи у нее буквально ныли от боли. Господи, он что, нарочно так себя ведет?
- Эй? Привет?
- Привет, - ответила она.
- Ты в порядке?
- Да:
- Пока меня не будет, ты сможешь съездить в Загородный клуб, и свозить детей на море, и почитать Моравиа...
- Я сейчас читаю Камю.
- Ты такая умная.
- Ты не опоздаешь на самолет?
- Свози Питера на море, и поиграй с малышкой, и поваляйся на солнце, и будь милой с Ричардом...
- Не могу. Я не могу быть милой с Ричардом. Из-за тебя он теперь больше для меня не существует.
- Я не хотел.
- Я знаю. Знаю. - Как любовник Джерри совершал одну ошибку - жестокую ошибку: он вел себя будто ее муж. А у нее до сих пор не было настоящего мужа. Теперь, наблюдая Джерри, Салли начала подумывать о том, что десять лет была замужем за человеком, старавшимся остаться для нее лишь любовником, сохраняя дистанцию, которую любовникам всякий раз приходится преодолевать. Ричард вечно критиковал ее, анализировал ее поступки. Когда она была молода, это ей льстило; теперь же казалось подлым. Вне постели он вечно стремился раздеть ее, обнажить какое-то двуличие, какие-то скрытые мотивы ее действий. А Джерри пытается ее одеть, то и дело бросая ей жалкие вуальки утешений и советов. Она кажется ему душераздирающе обнаженной.
- Послушай, - сказал он. - Я люблю тебя. Мне бы так хотелось, чтобы ты могла поехать со мной в Вашингтон: Но это невозможно. Однажды нам это сошло с рук. А теперь Ричард что-то знает. И Руфь знает.
- Знает?
- Чувствует кожей.
- Что ты сказал?
- Знает. Только не волнуйся на этот счет. Все равно во второй раз так чудесно не было бы. Мне тебя все время будет не хватать, и один в постели я вообще не засну. Кондиционер жужжит “ш-ш-ш”, “ш-ш-ш”.
- Значит, тебе будет не хватать и Руфи.
- Не в такой степени.
- Нет? Эй, я люблю тебя за то, что ты сказал: “Не в такой степени”. Настоящий любовник сказал бы: “Ничуть”.
Он засмеялся.
- А я как раз такой и есть. Не настоящий.
- Тогда почему же я не могу выкинуть тебя из головы? Джерри, мне больно, физически больно. Даже Ричард жалеет меня и дает мне снотворное, которое выписал ему врач.
- Мир не знает более высокой любви, если один человек отдает другому снотворное, которое ему выписал врач.
- Я могла бы вечером позвонить Джози и сказать, что у меня сломался “сааб” и я застряла в Нью-Йорке. Последнее время машина барахлит вовсю, я знаю, мне бы поверили.
- Ах ты мое солнышко! До чего же ты храбрая. Но это у нас не пройдет. Они узнают, и тогда Ричард не отдаст тебе детей.
- Мне не нужны дети, мне нужен ты.
- Не говори так. Ты очень любишь своих детей. Достаточно тебе было посмотреть на Питера - и уже глаза на мокром месте.
- Это из-за тебя у меня глаза на мокром месте.
- Я этого не хотел.
Она не знала, как на это реагировать: у нее никогда не хватит духу сказать, что он виноват во всем - и в том, чего не хотел совершить, и в том, что совершил. Джерри верил в Бога, и это служило препятствием для ее наставлений. Из окна кухни она увидела, что Питер нашел Бобби. Питер забыл про ее наказ и вместе со старшим братом направился в рощицу.
Она спросила:
- Ты весь день будешь в Госдепартаменте? Я могу позвонить тебе туда, если приеду?
- Салли, не надо приезжать. Ты идешь на Голгофу ради пустяков, мы же проведем вместе всего одну ночь.
- Ты забудешь меня.
Его смех отозвался в ней болью: она ведь действительно так считала.
- Не думаю, чтобы я мог забыть тебя за два дня.
- Ты считаешь, что ночь со мной - это пустяк? Он помолчал; лента секунд разматывалась, и Салли почувствовала, что он не спешит с ответом.
- Нет, - наконец сказал он. - Я считаю, что ночь с тобой - почти предел мечтаний. Я надеюсь, что у нас будет таких ночей - целая жизнь.
- Надежда - вещь приятная и безопасная.
- Я не хочу препираться с тобой. Я никогда не препираюсь с женщинами. Мне кажется, мы не должны сворачивать на этот путь, пока не будем точно знать, что намерены делать дальше.
Она вздохнула.
- Ты прав. Я говорю себе: “Джерри прав”. Мы не должны поступать необдуманно. Слишком многих это затрагивает.
- Целую орду. Хотелось бы мне, чтоб их было поменьше. Хотелось бы мне, чтоб в мире были только ты и я. Слушай. Ты не должна приезжать. Все рейсы перепутаны из-за этой забастовки в компании “Истерн”. Как раз сейчас у меня на глазах шесть генералов с четырьмя звездочками и двести молодчиков в дакроновых костюмах устремились к выходу номер семнадцать. Должно быть, объявили посадку на мой самолет. - Он говорил из телефонной будки на аэродроме Ла-Гардиа. Мест на самолет, которым Джерри собирался лететь, не оказалось, и теперь он убивал неожиданно освободившееся время, болтая с ней по телефону. Она подумала: “Если бы он попал на тот самолет, он бы мне не позвонил”, и эта случайность, позволившая увидеть, какое маленькое место занимает она в его жизни, лишь возвысила его в ее глазах, расширила своим оскорбительным подтекстом горькую, ноющую пустоту, которую создала в ней любовь.
Он ждет, что она рассмеется или согласится с ним, - она никак не могла вспомнить, чего он от нее ждет.
- Я очень тебя люблю, - вяло произнесла она.
- Эй, а как ты объяснишь сумму, которую с вас взыщут за этот телефонный разговор? Я бы не стал звонить за твой счет, если бы знал, что мы проговорим так долго.
- Ну, я скажу... сама не знаю, что я скажу. Во всяком случае, он никогда не слушает, что я говорю. - Иногда Салли задумывалась, так ли уж справедливы обвинения, которые она выдвигала против мужа. Ее рассуждения были как заросший сад: каждый день появлялись новые сорняки.
- Уже началась посадка. Прощай?
- Прощай, дорогой.
- Я позвоню тебе в среду утром.
- Очень хорошо.
Он уловил в ее голосе укор и спросил:
- Позвонить тебе из Вашингтона? Завтра утром?
- Нет, у тебя и без того дел хватит. Вот и занимайся ими. А обо мне - думай иногда. Он рассмеялся.
- А как же иначе? - Помолчал и сказал:
- Ты ведь единственная. - Чмокнул мембрану и повесил трубку.
Она быстро опустила трубку на рычаг, словно спешила закупорить бутылку, чтобы Джерри не выскочил из нее.
***
Нечесаная, в развевающемся банном халате, Салли вышла из дома и громко крикнула, повернувшись к кромке рощицы: “Ма-аль-чики! На пля-аж!”
В рощице, отделявшей дома соседей друг от друга, густо пахло летом - то был не обычный для Коннектикута запах прореженного кустарника и травы, а насыщенный теплый аромат спрессованной листвы и гниющей древесины; вот так же пахло, когда она девчонкой приезжала на летние каникулы из Сиэтла в Каскады. Она поднялась наверх переодеться, и легкая свежесть папоротника, вызывавшая ностальгию, проникла в окно спальни, сливаясь с резким, слегка порочным запахом соли, которым отдавал ее купальный костюм. Салли скрутила волосы в пучок и заколола шпильками. Одна, у себя в ванной, она вызвала к жизни образ Джерри - его глаза смотрели на нее из воздуха. Прежде, чем предаться любви, он всегда вытаскивал из ее волос шпильки, и, совершая ежедневный туалет, она как бы склонялась перед ним, разделяя его бережную любовь к ее телу.
Она приготовила термос лимонада, побранила мальчиков, велела им быстрее надевать плавки и усадила всех в машину. “Сааб” в последнее время неохотно заводился, поэтому она парковала его носом к спуску и, используя инерцию движения, включала мотор. Когда Салли докатила вниз, на дороге показалась Джози, усердно толкавшая колясочку с Теодорой, в ногах которой стоял пакет с покупками; они встретились на самой крутизне, где Салли обычно отпускала сцепление. Женщины успели лишь обменяться испуганными взглядами: как раз в этот момент зажиганье дало искру, и мотор рывком заработал. Салли показалось, что Джози хотела о чем-то ее спросить - что-нибудь насчет кормления или сна Теодоры, но Джози знала все это не хуже нее - даже лучше, потому что была менее рассеянная, не молодая и уже оставившая любовь позади.
Под умиротворяющим июньским солнцем Саунд расстилался гладкой равниной, излучавшей приказ: “Не езди”. Салли повела Питера и Бобби в дальний конец пляжа. Ей показалось, что в группке матерей на другом конце она заметила Руфь, а Бобби как раз сказал:
- Я хочу поиграть с Чарли Конантом.
- Вот устроимся, тогда пойдешь и разыщешь его, - сказала Салли. И вдруг обнаружила, что снова плачет: почувствовала, как щеки стали влажными. Не езди. Все было за это - песчинки, хор танцующих искр на воде, настороженные взгляды сыновей, отдаленные всплески и крики, заполнившие ее слух, словно мягкий стук сказочной швейной машинки, когда она легла и закрыла глаза. Не езди, ты не можешь уехать, ты здесь. Это единодушие всех и вся было просто поразительным. Он не хотел, чтобы она ехала к нему, он считал, что ночь с ней - это ничто, он заявил, что она устраивает себе Голгофу, он сказал, что так, как было в первый раз, уже не будет. Она обозлилась на него. Под безжалостными лучами солнца ей стало трудно дышать; что-то жесткое царапнуло кожу на ее обнаженном животе, и она открыла глаза, еле сдержав крик. Питер принес клешню краба, высохшую и пахучую. “Не уезжай, мамочка”, - молил он, поднеся к самым ее глазам свой хрупкий мертвый дар. Должно быть, все-таки это ей послышалось.
- Какая прелесть, солнышко. Только не бери в ротик. А теперь беги, играй с Бобби.
- Бобби не любит меня.
- Не говори глупости, милый, он тебя очень любит, просто не умеет это выразить. А сейчас беги и дай мамочке подумать.
Конечно, не надо ей ехать. Джерри правильно сказал: им тогда повезло. Ричард находился в одной из своих поездок. Джерри ждал ее в Национальном аэропорту, они взяли такси и поехали в Вашингтон. Шофер, серьезный мужчина с кожей цвета чая, который вел машину так осторожно, будто она его собственная, подметил их особую молчаливость и спросил, не хотят ли они проехать через парк, вокруг Тайдл-бей-син, чтобы полюбоваться японскими вишнями. Джерри сказал - да. Деревья стояли в цвету - розовые, сиреневатые, оранжевые, белые; дрожащие пальцы Джерри все крутили и крутили на ее пальце обручальное кольцо. Черная няня играла в пятнашки с маленькими мальчиками на тенистой лужайке, и самый маленький из них протянул ручонки, а мяч, не коснувшись их, упал у его ног. В вестибюле отеля, затянутом темными коврами, гудели протяжные южные голоса. Опустив глаза, портье записал ее как миссис Конант. Наверно, слишком уж она сияла. В номере были белые стены, на них - олеографии в рамках, изображавшие цветы; окна глядели в колодец двора. Джерри брился опасной бритвой, усиленно намыливаясь кисточкой, чего она никак не ожидала. Она полагала, что все мужчины бреются электробритвами, потому что так брился Ричард. Не ожидала она и того, что в первый же вечер, пока она подкрашивала глаза в ванной, а он смотрел по телевизору, как Арнольд Палмер одерживает победу, загоняя мяч в лунку, на него нападет депрессия и ей придется добрых четверть часа сидеть подле него, а он будет лежать в постели, смотреть на белые стены и бормотать что-то насчет страданий и греха; с большим трудом ему удастся, наконец, собраться с духом, застегнуть рубашку, надеть пиджак и пойти с ней в ресторан. Они шли тогда под весенним, высекающим слезы ветром - квартал за кварталом, по широким, проложенным под прямым углом друг к другу улицам, - ” - а ресторана все не было. Вдали от освещенных монументов и фасадов Вашингтон казался темным и загадочным, словно закулисная часть театра. Мимо, шурша, проносились лимузины, оставляя за собой одинокий текучий звук, - на Манхэттене такой звук можно услышать разве что поздно ночью. Салли чувствовала, как наваждение постепенно покидает Джерри. Он стал вдруг очень возбужденным, перепрыгнул лягушкой через счетчик у стоянки машин, а в ресторане, излюбленном месте техасцев, где подавали дорогие мясные блюда, изображал из себя конгрессмена, сопровождающего молочную королеву из Миннесоты. “А ты мне пригляну-у-улась, душечка”. Официант, прислушивавшийся к их разговору, ждал хороших чаевых и был явно разочарован. Странно, что ей доставляет удовольствие вспоминать неловкие ситуации, в которые она попадала. В тесном магазинчике подарков, где Джерри непременно хотел купить игрушки своим детям, продавщица то и дело поворачивалась к ней, точно она была их матерью, и вопросительно смотрела, озадаченная ее молчанием. В последнее утро у лифта, когда они ехали завтракать, старшая горничная спросила, можно ли убрать у них в номере, и она сказала - да; эта женщина была первым человеком, не усомнившимся в том, что она - жена Джерри. Когда они в полдень вернулись в номер, жалюзи были подняты, с кровати все было сдернуто и сама она отодвинута к бюро, а по полу ползал негр и чистил ковер мягко жужжавшим пылесосом. Джерри и Салли покинули отель в одном такси, но домой летели разными самолетами, а приехав, обнаружили, что никто не сопоставил их одновременного отсутствия. Их мимолетный брак - обручальное кольцо, вышвырнутое за борт, - все глубже и глубже, безвозвратно погружался в зеленые воды прошлого. Что бы ни случилось, такого уже не будет, никогда не будет - до конца дней. Было бы глупо - чистое безумие - все поставить на карту и поехать к нему сейчас. Ибо теперь жалюзи, прикрывавшие их роман, если и не были окончательно сорваны, то, во всяком случае, достаточно приоткрыты: Джози краснела и решительно выходила из кухни, когда в десять часов раздавался, по обыкновению, звонок Джерри; Ричард вечера напролет сидел и пил, задумчиво втянув в себя верхнюю губу; а с личика Питера почти не исчезало настороженное, выжидающее выражение. Даже малышка, только-только учившаяся ходить, и та, казалось, сторонилась ее и предпочитала держаться за воздух. Быть может, все это ей просто мерещится - порою Салли всерьез боялась за свой рассудок.
Она поднялась на ноги. Море, сшитое с небом тоненькой бежевой ниточкой острова, казалось, исключало возможность вырваться отсюда. Ею овладела паника.
- Ма-альчики! - позвала она. - Пора е-ехать!
Тельце Бобби изогнулось и упало на песок в припадке досады. Он крикнул:
- Мы же только что приехали, ты, дурочка!
- Никогда не смей так говорить, - сказала она ему. - Если будешь грубить, никому и в голову не придет, что, в общем-то, ты славный маленький мальчик. - Еще одна из теорий Джерри: если часто повторять человеку, что он славный, он и станет славным. И в известном смысле это срабатывало. Питер подошел к ней; Бобби, испугавшись, что его оставят одного, надулся, но все же нехотя побрел за ними к“саабу”.
Не езди. Не надо. Однако приказ этот не имел веса, никакого веса, и хотя она читала его в десятке предзнаменований, возникавших препятствиями на ее пути, пока она одевалась и что-то лгала, чтобы выбраться из дома, и мчалась в аэропорт, и оплачивала проезд на самолете, - слова оставались пустыми, невесомыми, они колыхались на поверхности, а под ними была глубокая убежденность, что ехать надо, что ничего другого и быть не может, что только это - правильно. Волна уверенности в том, что она поступает правильно, подхватила Салли и пронесла над неожиданным препятствием в виде изумленной Джози, мимо обращенных к ней лиц детей, заставила стремительно, задыхаясь, переодеться, пренебречь зловещим непослушанием стартера в “саабе”, погнала ее вниз по извилистым аллеям парка Мерритт, по захламленным металлическим ломом бульварам Куинса, помогла выдержать нервотрепку в аэропорту Ла-Гардиа, пока служащие компании “Юнайтед” искали для нее место на самолете, вылетавшем в Вашингтон. И Салли полетела - стала птицей, героиней. Небо легло ей на спину, когда они взмыли ввысь в безоблачную прерию над облаками, - трепещущая, сияющая, неподвижно застывшая, она залпом проглотила двадцать страниц Камю, в то время как тупорылый воздушный кондиционер шелестел над ее волосами. Самолет накренился над глинистым континентом ферм, где скакали лошади величиной с булавочную головку. В иллюминаторе потянулись акры пастельных домиков, изогнувшихся кривыми рядами, а потом город - пересекающиеся авеню и миниатюрные памятники. Обелиск Вашингтона на мгновение возник в глубине широкого Молла с куполом Капитолия в противоположном конце. Самолет пролетел над самой водой, подскочил, коснувшись земли, моторам дали обратный ход, машина содрогнулась, потом, величественно покачиваясь, пробежала немного вразвалку и остановилась. Промчавшийся ливень оставил мокрые следы на взлетно-посадочной полосе. Послеполуденное солнце припекало бетон, и от него поднимался влажный жар, тропически душный, совсем не похожий на жару у моря, откуда Салли бежала. Было три часа дня. В аэровокзале люди стремительно шли к выходу, осаждаемые смешанными запахами натертых полов и горячих сосисок. Салли отыскала пустую телефонную будку. Рука не слушалась, вкладывая в отверстие монету. Заусеница на указательном пальце больно задралась, когда она стала набирать нужный номер.
***
Джерри работал художником-мультипликатором и иллюстрировал телевизионную рекламу; Госдепартамент заказал его фирме серию тридцатисекундных сюжетов на тему о приобщении слаборазвитых стран к свободе, и Джерри отвечал за этот проект. Со времени той первой поездки в Вашингтон Салли помнила, в каком отделе Госдепартамента можно его найти.
- Он не работает у вас в штате, - пояснила она. - Он приехал всего на два дня.
- Мы нашли его, мисс. Скажите, пожалуйста, что передать - кто звонит?
- Салли Матиас.
- Мистер Конант, вас спрашивает мисс Матиас. Шуршанье электрических помех. И его резкий хохоток.
- Эй, ты, сумасшедшая мисс Матиас, привет.
- Я сумасшедшая? Наверно. Бывает, смотрю на себя и думаю - совсем спокойно: “Ты рехнулась”.
- Ты где, дома?
- Солнышко, неужели не ясно? Я здесь. В аэропорту.
- Господи, в самом деле приехала, да? Безумица.
- Ты на меня сердишься?
Он рассмеялся, но не стал разуверять ее. Во всяком случае, не сказал ничего утвердительного - одни вопросы.
- Да разве я могу на тебя сердиться, если я люблю тебя? Какие у тебя планы?
- А надо мне было приезжать? Я поступлю так, как ты хочешь. Ты хочешь, чтоб я уехала?
Она почувствовала: он что-то высчитывает. За стеклом телефонной будки на натертом полу стоял маленький пуэрториканец приблизительно одних дет с Питером - должно быть, его тут оставили. Он вращал своими черными глазенками; острый подбородочек его вдруг задрожал, и он заплакал.
- Можешь убить как-то время? - спросил, наконец, Джерри. - Я позвоню в отель и скажу, что жена решила приехать ко мне. Возьми такси, поезжай в Смитсоновский институт или еще куда-нибудь часика на два, встретимся на Четырнадцатой улице у пересечения с Нью-йоркской авеню примерно в половине шестого.
Дверь соседней телефонной будки распахнулась, и смуглый мужчина в цветастой рубашке раздраженно схватил мальчика за руку и повел куда-то.
- А что, если мы друг друга не найдем?
- Слушай. Я найду тебя даже в аду. - Ее всегда пугало, что Джерри, упоминая про ад, имеет в виду вполне конкретное место. - Если почувствуешь, что заблудилась, иди на Лафайетт-сквер - ну, ты, знаешь, в садик за Белым домом - и стой под передними копытами лошади.
- Эй? Джерри? Не смей меня ненавидеть.
- О Господи. Вот было бы хорошо, если б я тебя возненавидел! Скажи лучше, как ты одета.
- Черный полотняный костюм.
- Тот, в котором ты была на вечеринке у Коллинзов? Грандиозно. В Смитсоновском институте на первом этаже потрясающие старинные поезда. И не пропусти самолет Линдберга. До встречи в полшестого.
- Джерри? Я люблю тебя.
- И я тебя люблю.
"Значит, он считает, что хорошо было бы, если бы он мог возненавидеть меня”, - подумала она и, выйдя из аэровокзала, взяла такси. Шофер спросил, в какой Смитсоновский институт ей надо - в старый или в новый, и она сказала - в старый. Но подойдя к двери старинного особняка из красного кирпича, круто повернула обратно. Прошлое было для нее лишь пыльным пьедесталом, возведенным для того, чтобы она могла жить сейчас. Она повернула обратно и пошла под солнцем по Моллу. Убывающий день, тротуары, усеянные пятнами тени и семенами, тележки торговцев сластями, туристские автобусы с темными стеклами, набитые глазеющими американцами, стайки детей, причудливое кольцо колеблемых ветерком красно-бело-синих флагов у основания высокого обелиска, индийские женщины в сари с браминскими кружочками на лбу и жемчужинками в ноздре и в то же время при зонтиках и портфелях - все это создавало у Салли впечатление ярмарки, а купол Капитолия вдали, более светлый, чем серые крылья основного здания, поблескивал, словцо глазированный марципан. Солнечный свет, озарявший, куда ни глянь, официальные здания, казался ей драгоценным, как деньги, - она шла мимо Музея естественной истории вверх по 12-й улице под серыми аркадами министерства почт, затем по Пенсильванской авеню - к ограде Белого дома. Она чувствовала себя легко, свободно. Правительственные здания, вылепленные причудливой рукой и застывшие, как бы царили в воздухе рядом с нею; величественные и нереальные, они давили на нее. В просветы между часовыми и зеленью она поглядела на Белый дом - ей показалось, что он сделан из чего-то ненастоящего и похож на меренгу. Она подумала о большеглазом молодом ирландце, который правил там: интересно, каков он в постели, мелькнуло у нее в голове, но представить себе этого она не могла - он же президент. И она свернула на 14-ю улицу, шагая навстречу своей судьбе.
В сумочке у Салли была зубная щетка - весь ее багаж: она унаследовала от отца любовь путешествовать налегке. Ничем не обремененная, не чувствуя жары в своем черном полотняном костюме, она казалась самой себе элегантной молодой вдовой, возвращающейся с похорон мужа, старого, жадного и злого. На самом-то деле Ричард, несколько, правда, отяжелевший за эти десять лет, был все еще хорош собой, хотя голова его, казалось, давила своей тяжестью на плечи, а движения стали менее стремительными и четкими под бременем “ответственности” - слово это он произносил отрывисто и раздраженно. Когда они только поженились, жили они на Манхэттене и, поскольку были бедны, много ходили пешком и ничуть не расстраивались. Она почувствовала призрак Ричарда у своего плеча, вспомнила, как стала даже ходить иначе от сознания, что рядом - мужчина, твой собственный. Она ненавидела учебные заведения - эти чопорные места изгнания на Восточном побережье. Ричард вызволил ее из Барнарда и сделал женщиной. Куда же девалась ее благодарность? Неужели она такая испорченная? Нет, не могла она этому поверить сейчас, когда вся была еще наполнена ощущением бескрайнего небесного простора, хотя под ногами блестели кусочки слюды, а ноздри щекотал перечный запах гудрона. Полосы на переходе размазались и сместились, расплавленные летней жарой. Она решительно шагала по широким тротуарам, обгоняя неторопливо шествующих южан. Часы на церкви - лимонно-желтой церкви Святого Иоанна - пробили пять ударов. Она пошла на запад по Ай-стрит. Правительственные служащие в распахнутых легких пиджаках, щурясь от солнца, смотрели сквозь нее и спешили дальше - к ожидающим в Мэриленде женам и мартини. Море женщин выплеснулось на улицы. По стеклянным фронтонам зданий слева золотой брошью катилось солнце, и жаркие лучи его, нагрев ее лицо, заставили Салли вспомнить о себе. Она поняла, что невольно насупилась, сосредоточенно вглядываясь в лица, из страха пропустить лицо Джерри.
Как он просияет! Невзирая на все свои угрызения совести и предчувствия, как он просияет при виде нее, - он всегда сияет, и только она одна способна вызвать у него эту улыбку. Хотя он был всего на несколько месяцев старше нее и отличался удивительной для своих тридцати лет наивностью, в его присутствии она чувствовала себя словно бы его дочерью, чье непослушание всякий раз было проявлением бережно хранимой жизнестойкости. Салли почувствовала, что лицо ее застыло в широкой улыбке - в ответ на воображаемую улыбку Джерри.
А другие лица таили в себе опасность. Ей показалось, что она увидела знакомого, молодого питомца Уолл-стрита, которого Ричард не раз приглашал к ним в Дом, - он как раз заворачивал за угол здания авиакомпании “Бритиш Оверсиз Эруэйс”, напротив простершей свою длань статуи Фэррагата <Фэррагат Дэвид Глазгоу - американский адмирал>. Фамилия этого человека была Уигглсуорс, а перед ней два инициала - какие именно, Салли не могла вспомнить. Его ничего не выражающее лицо исчезло за углом. Наверняка она ошиблась: ведь на свете миллионы людей, но типов - лишь несколько, а таких людей, которые не принадлежат ни к одному из них, очень мало. Тем не менее, из страха быть узнанной, она опустила взгляд, так что, как и предсказывал Джерри, обнаружил ее, конечно же, он, хоть и не в аду.
- Салли! - Он стоял на теневой стороне Ай-стрит, без шляпы, подняв руку, точно останавливал такси. В строгом костюме он был обескураживающе похож на всех прочих, и пока он ждал у перекрестка, чтобы сигнал светофора позволил перейти улицу, сердце у нее екнуло, точно она вдруг проснулась и выяснила, что находится за двести миль от дома. Она спросила себя: “Кто этот мужчина?” Сигнал возвестил: ИДИТЕ, и он заспешил к ней - первый в группке людей; сердце у нее заколотилось. Она беспомощно стояла на краю тротуара, а расстояние между ними сокращалось, и ее тело, все ее опустошенное тело, вновь чувствовало трепетное касанье его рук; она увидела его крючковатый нос, который никогда не загорал и был красным все лето, его печальные неопределенного цвета глаза, его неровные, торчащие зубы. Он гордо и как-то нервна улыбнулся, с минуту неуверенно постоял, потом дотронулся до ее локтя и поцеловал в щеку.
- Господи, до чего же ты грандиозна, - сказал он, - шагаешь вразвалку своими большими ногами, точно девчонка с фермы, которая на каблуках ходить не умеет.
Сердце у нее успокоилось. Никто больше не видел ее такой. Она ведь из Сиэтла, потому и кажется Джерри девчонкой с фермы. Да она и в самом деле чувствовала себя не в своей тарелке здесь, на востоке. Среди местных женщин немало таких - к примеру Руфь, - которые никогда не прибегают к косметике, никогда открыто не флиртуют; рядом с ними Салли чувствовала себя нескладной, угловатой. Ричард заметил это и пытался понять причину ее неуверенности. Джерри тоже заметил и назвал ее своей “девочкой в ситцах”. Только после смерти отца, поехав однажды в Сан-Франциско, она вдруг почувствовала то, что, наверное, чувствуют все дети: до чего же здорово во всем, в каждой маленькой мелочи, быть самой собой.
- Как ты, черт подери, сумела удрать?
- Просто сказала “до свидания”, села в “сааб” и отправилась в аэропорт.
- А знаешь, это здорово - встретить женщину, которая умеет использовать двадцатый век на все сто. - Это была еще одна его причуда - считать, будто есть что-то комическое, несообразное в том, что они живут сейчас, в этом веке. Случалось, лежа с ней в постели, он называл ее “дражайшая моя половина”. Она чувствовала, что ему доставляет удовольствие деликатно подчеркивать, - чтобы она ни в коем случае не забыла, - сложность их отношений в рамках окружающего мира. Даже сама его нежность возвещала о том, что их любовь незаконна и обречена.
- Эй, - сказал он, перекидывая к ней мостик сквозь наступившее молчание. - Я не хочу, чтобы ты рисковала ради меня. Я хочу сам рисковать ради тебя.
"Но ты не станешь”, - подумала она, продевая руку под его локоть, и опустила голову, стараясь попасть в ритм его шагов.
- Пусть это те&heip;

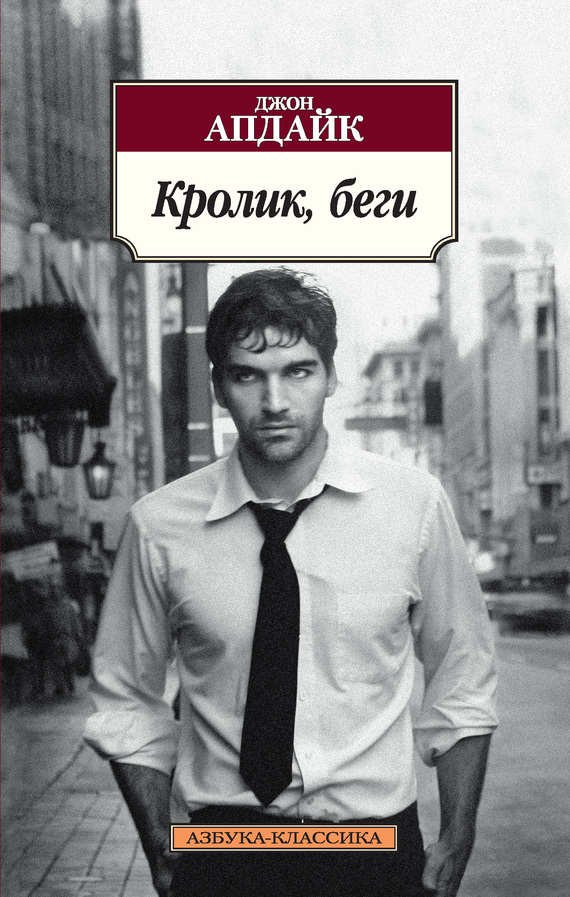




комментариев нет